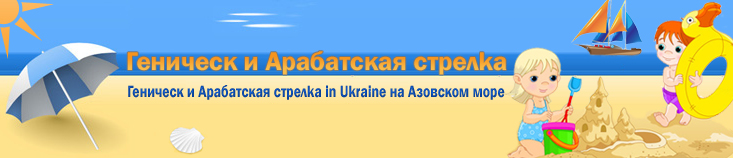Геническ — Рожков хутор на Арабатской стрелке

Былое о настоящем
Был жаркий июльский полдень. Уже третьи сутки я шел из Геническа в Керчь по безлюдному песчаному шляху.
Несколькими лентами пролегал он по стрелке на юго-восток, зажатый водами Сиваша и Азовского моря.
Воздух пах травами, стояла какая-то до боли в голове знойная тишина.
Погруженный в мысли о запустении этого оставленного людьми кусочка земли, я не сразу заметил маленькую, сгорбленную фигурку с большим мешком за спиной.
Ее силуэт то исчезал, то вновь появлялся в прибрежных зарослях дикой мальвы среди невысоких песчаных дюн.
Фигурка оказалась старушкой лет шестидесяти пяти, в огромных резиновых сапогах на босую ногу, в черном шерстяном платке с сильным напуском на лоб.
Поверх ее коричневого платья с длинным рукавом был надет плотный, выцветший на солнце вельветовый халат.
Что-то дикое было в ее облике. С пеньковым мешком, из которого торчали дрова, она казалась отшельником в пустыне или рыбачкой, пришедшей сюда из прошлого века.
Она делала вид, что не замечает меня. Пот ручьями стекал по ее усталому загорелому лицу.
«Давайте помогу», — сказал я, поздоровавшись. Ответа не последовало.
Пришлось на всякий случай объяснить, кто я и зачем сюда пожаловал.
Но и это не произвело должного впечатления.
Чувствуя себя лишним, я уж было собрался уйти, как вдруг она, как бы оправдываясь, заговорила: «Вот ежика заносила, собак ночью дразнит, заодно и дров насобирала.
Много их тута штормом накидало, Рожкова я. Надеждой Петровной зовут.
Мы с сестрой одни тута осталися, уходить никуды не схотели».
Пока я нес дрова, старушка рассказывала о своих житейских проблемах.
О том, что шляются здесь всякие на машинах, что украли у них в прошлом году двух овечек, а было и коровы пропадали, что «кадась дуже давно» нехороший человек крыс мешок подбросил, чтоб крольчат поели.
Рассказывала, как они котов развели, чтоб с крысами этими бороться, и что теперь их самих приходится привязывать, когда маленькие крольчата появляются, и что счету котам она давно не знает.
— А рыбу вы ловите ? — перебил я.
— Нет, — нехотя ответила старушка.
— Лодка сгнила, и рыбы мало, большая только — осетры и белуга-хичница, она кефаль и подсулков жрет.
Усю маленькую рыбу истребила проклятая. В Сиваше хочь камбала была, а теперь, кода стали пресную воду туды с канала спускать, бычок развелся, кусает их и распугует.
Так, разговорившись, незаметно мы подошли к маленькому каменному домику, единственному в этой горячей и широкой степи.
Окна его, заложенные саманом и кусками фанеры, угадывались с трудом, и весь он поэтому очень походил на старика с бельмами, слепо глядящими на юг.
Отсутствие трубы придавало ему вид необитаемый. Вся флора подворья, утопающего в бездне света, была представлена исполинскими зарослями татарника. Остальное было вытоптано и съедено козами.
Я присел на лавку у стены. Узнав от сестры, что меня интересует история этих мест, вышла вторая Рожкова — Елена Петровна.
Много интересного я тогда услышал от них.
Прадеда их, уроженца Курских земель, младенцем привезли переселенцы еще во времена заселения Таврии Екатериной II.
— С детства помню, — говорила старушка, — хуторов на косе было много, а наш был большой, из нескольких семей, рыболовецкий стан стоял неподалеку.
Рыбы было ! Солили, коптили, был и ледник для ее хранения. Теперь одни холмы остались и те травой поросли.
— Трудно одним? — спросил я.
— Эту зиму сильно намучились, без трубы, дыму полно, коз с ягнятами тоже брали, чтоб не померзли. С ними веселей. А что грязно, не беда.
— А у вас хоть фонарик есть или лампа?
— Мы так привыкли, — махнула рукой, — кадась была и сломалась.
— А если болеете, травами лечитесь?
— Зачем травами? У нас таблетки есть. Как бычок Лизавету пободал, дохторша выписала. Их пьем, дорогие таблетки, хорошие.
— А давно это было?
— Давно, мать, года три, а может и больше.
Я не выдержал и улыбнулся.
Постепенно мы оказались в кольце любопытных животных, пришедших поглядеть на незнакомого человека.
Смелее всех был черный, как уголек, кот. Он первый меня обнюхал и, закрыв глаза, замурлыкал у ног.
Затем разрешила себя погладить осторожная коза.
Отовсюду на меня смотрели доверчивые и безгрешные, как у младенцев, глаза овечек.
Что-то первозданное, библейское было в этом.
Природа и человек были неотделимы. Старушки знали всех поименно, и нужно было видеть, с какой любовью они ворчали на непослушных питомцев.
Когда я фотографировал эту сцену, Елизавета Петровна, обняв свою рогатую любимицу, говорила:
«И ты сиди тихо, не шелохнись, а, то не получится. А как книжку про нас напишите, продайте нам одну. Мы читать будем».
Раскаленный солнечный диск уже пошел на снижение, но жара не спадала.
Поблагодарив за рассказ и пожелав старушкам долголетия, я ушел. Двоякое чувство не покидало меня.
У поворота дороги я оглянулся.
Покосившийся домик и две старушки — живые изваяния былой эпохи. Все первобытно, убого.
«В мертвом хуторе еще теплится жизнь, — подумал я и тут же исправился. — Нет, не в мертвом, и жизнь не теплится.
Она существует, полнокровная, гармоничная, в чем-то нам недоступная, неотделимая от солнца, ветра, запаха трав и шума морского прибоя.
Виталий Пихуля